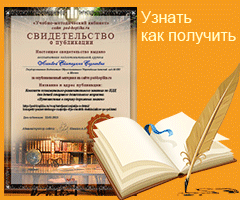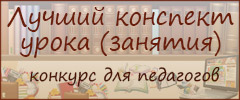Философско-аллегорический смысл цикла Н.И. Тряпкина «Песнь песней»
Философско-аллегорический смысл цикла Н.И. Тряпкина «Песнь песней»
«Песнь песней» в переводе с еврейского означает « превосходнейшая, наилучшая из песней». «Песнь песней», как известно, - одна из книг Ветхого Завета, приписываемая царю Соломону. В разные эпохи это произведение трактовалось по-разному. Ранние христиане видели аллегорический смысл произведения в выражении любви Иисуса Христа к Церкви, то есть к людям, верующим в Его спасительную жертву на кресте. Еврейские раввины представляли это повествование как расширенную, интимную историю об отношениях Бога с израильским народом
На современном этапе лингвисты и литературоведы считают, что произведение имеет фольклорную основу и восходит к любовным и свадебным песням древним народам Месопотамии. Многие известные авторы занимались переложением «Песни песней», создавали свои тексты в подражание знаменитому источнику: А.С. Пушкин «В крови горит огонь желанья», «Вертоград моей сестры», А.А. Фет «Подражание восточному» («Я люблю его жарко, он тигром в бою», «Не дивись, что я черна…», «Соловей и роза», «Восточный мотив», «Аввадон»), А.М. Эфрос «Песнь песней Соломона» и другие. Основной темой этих произведений является любовь. Философские мотивы можно наблюдать в цикле А.А. Фета, но они не являются основными.
Н.Н. Тряпкин создает цикл стихотворений, который так и называет – «Песнь песней» (1971-1973 годы). Название можно соотнести с переводом названия библейской «Песни песней» - наилучшая из того, что написал автор, то есть название может содержать высокую авторскую оценку цикла. Эпиграф из стихотворения В.Я. Брюсова «Век за веком»: «И дальше тропой неизбежной, // Сквозь годы и бедствий и смут…» указывает на философско-исторический и аллегорический характер произведения.
Автор поднимает важнейшие философские вопросы жизни и смерти, вечности природы и Мироздания, вечности Слова, творчества:
Рождение и Смерть! Начало и конец!
Начало и Конец!
А между ними – Жизнь, Творенье и Творец!
Творенье и Творец!..
В небольшом по объему произведении концентрируется множество смыслов. Цикл похож на прекрасный бутон волшебной розы: постепенно раскрываясь, лепестки открывают нам свою прелесть и аромат, за каждым лепестком кроется своя тайна…
Как достигает это автор? Как множество смыслов объединяется в единое художественное полотно?
Автор создает сложный образ времени и пространства.
Обратимся к первой части цикла.
Пространство художественного текста – это и «знакомая сторонка», «пригорки и кусты» - малая родина поэта, и вся необъятная Вселенная. Автор использует зрительные образы: « …И вновь присяду – то у стога, // А то у памятной версты…», «Иду знакомо стороною, // Овеян пухом лозняка…», звуковые образы: «И только полночь – ух да ух! // За каждым кровом…», « И не смолкает шум проточный…», «…Лопочет сухлый зверобой…», «Скрип забытой колыбели…». Мы ощущаем мельчайшие подробности, конкретные детали повседневности земного мира. И тут же взгляд автора устремляется ввысь и нашему взору открываются космические дали: «И только вьется звездный пух // за Гончим ловом…», « И вновь проходят надо мною // Великим ходом облака…» Или наоборот, взгляд из Космоса направлен на то, что происходит на Земле: «А ты, земное колесо, // Не сбавишь хода. // И все грозней в мое лицо // Глядит природа…» Интересно, что дважды используется вариативная метафора для создания образов макромира и микромира: «…вьется звездный пух…» (имеется в виду Млечный путь) и «Овеян пухом лозняка…» (конкретная деталь пробуждающегося весеннего леса средней полосы России). Во пятой части используется лексический повтор «великий» и контекстные синонимы «дорога», «ход»: «и снова тянется дорога…», «И вновь проходят надо мною // Великим ходом облака…», «И не смолкает шум проточный // Великий шум поры такой…» Здесь оценочный эпитет «великий» характеризует отношение автора ко всему, что происходит в природе, во Вселенной и что имеет отношение к человеку: дорога человека, его судьба, его земной путь соотносится с великим ходом облаков и великим шумом воды- великим ходом истории и Мироздания. Так микромир и макромир объединяются в единое бесконечное пространство Вселенной. Кроме того, таким образом автор утверждает мысль о ценности каждой былинки, каждой травинки, любой детали мира земного, самого человека, соотнося эти детали, этих персонажей с миром Космоса.
Для цикла характерна сложная категория времени. Время сиюминутное, мгновенное, позволяющее запечатлеть эпизоды конкретного восприятия действительности, и время, относящееся к вечности. Время цикла спрессовано. Оно сочетает и конечную жизнь человека на Земле, и бесчисленное количество миллионов лет существования Вселенной. Категория вечного времени связана с временем историческим:
…Проходит все – и солнце и трава,
И грозы всех богов и Тамерланов.
И сколько слез, и сколько торжества
Укрыли вы, подножия курганов!
Эгей , цветов горячий перезвон!
Эгей ты, солнце! Светоч наш и гений!..
Гнетут меня полынный дух времен
И таинства прошедших поколений…
Помимо прошедшего и настоящего, есть в тексте и будущее время:
…И пусть там снова целину
Поднимут внуки
И снова к вечному зерну
Приложат руки…
Автор создает метафорический образ «земного колеса», «земной круговерти» при помощи указания на цикличность времени. Прошлое сменяется настоящим, за настоящим наступает будущее, и далее все повторяется вновь. Так, в первой части цикла на лексическом уровне образ круговерти создается благодаря глаголам в форме прошедшего, настоящего или простого будущего времени («сгнили», «слегли», «глядит», «вьется», «упадут», «прорастет», «поднимут», «приложат»), при помощи слов со значением времени: «после», «снова», «вновь». Интересно, что последняя строфа этой части представляет собой неполное предложение, не имеющее глагола:
А после вновь – песок, песок,
Да эта птаха,
Да этот скорбный голосок
Над горстью праха…
Лексический повтор «песок, песок» выполняет множество функций. Это и аллюзия с английской идиомой, связывающей течение времени с песком в песочных часах (выражение «песок времени»), и создание ассоциативного образа пустыни – мертвого пространства, здесь песок выступает символом смерти, символом прошлого.
Образ земного колеса в первой части создается и при помощи лексики со значением направления движения. В первых двух строфах автор выступает собеседником для читателя, он как бы находится рядом с читателем. Такое ощущение возникает благодаря риторическим вопросам, открывающим первую часть цикла:
…Где поколение отцов?
Где предки наши?
Давно у старых тех копцов
Слегли папаши…
Риторические вопросы включают читателя в беседу с автором, который находится рядом. Затем взгляд автора и читателя направляется вверх: « в мое лицо // Глядит природа…», «…вьется звездный пух…», потом глагол «упадут» передает движение вниз: «Да упадут мои слова…», затем снова начинается движение вверх: «И пусть там снова целину // Поднимут внуки…». Последняя строфа не имеет глаголов, перед глазами читателя – изначальное пространство пустыни, кладбища или кургана – места, где хоронят умерших. Таким образом, чередование глаголов со значением движения « вверх-вниз» способствует созданию образа цикличного перемещения, вызывая ассоциации с вращением колеса.
Во второй части контекстным синонимом земного колеса выступает кольцо: «А солнце вновь и вновь // Замкнет свое кольцо…», земная круговерть: «И да восславит Гимн земную круговерть…», в третьей части автор использует слово «круг»: «У последнего круга // Никому не кричи…»
Так на уровне образной системы автор утверждает мысль о вечной, обновляющейся и возрождающейся жизни.
Основными лейтмотивами цикла являются лейтмотивы жизни и смерти, вечности, творчества. Философский и аллегорический смысл стихотворений цикла передается при помощи образов – символов, при этом основным композиционным приемом является прием антитезы.
Лейтмотив прошлого, памяти, смерти передают контекстные синонимы «курган», «копец» (диалектное слово в значениях «гибель», «смерть», «курган»), «прах», «кресты», «гроб», «погост», «каменеющие звезды», «замерзающая вода», «снеговей»…)
Лейтмотив жизни воплощается при помощи контекстных синонимов «озимый сев», «ростинка из зерна», «капель», «тальянка», «солнце», «цветов горячий перезвон»…
Символы вечно возрождающейся жизни: вечное зерно, земное колесо, земная круговерть…
Антитеза пронизывает разные пласты лексики. Так, для первой строфы первой части характерен разговорный стиль (использование разговорной лексики, построения предложений, характерное для разговорного стиля с анафорой «где»). В этой строфе слова «папаши», «копцы» относятся к разговорному стилю, как бы приглашая читателя к беседе, так же, как и риторические вопросы с использованием анафоры.
Вторая строфа содержит слова высокого, книжного стиля: «прах», «юдоль» (юдоль - поэтический и религиозный символ, обозначающий тяготы жизненного пути, с его заботами и сложностями).
Построение предложений пятой строфы первой части с использованием анафоры (частица «да» в сочетании с формой повелительного наклонения) : «Да упадут мои слова // Озимым севом! // Да прорастет полынь-трава // Под этим чревом!..», использование в этой строфе старославянизма «чревом» характерно для высокого стиля. Последняя строфа вновь содержит лексику разговорного стиля: «птаха», «голосок». Так происходит сопоставление высокого и низкого, земного и Космического, бренного и вечного.
Известно, что мировоззрение и мироощущение Н.И. Тряпкина с годами менялось, менялся его взгляд на взаимоотношения человека и природы, место человека во Вселенной, менялся и лирический герой его произведений. В ранней лирике Тряпкин создает образ всемогущего человека – покорителя Земли, хозяина планеты:«…Потому-то, наш груз поднимая // По каткам да под выкрики «р-раз!» , // Это мы над Землей громыхаем, И два полюса слушают нас…» («Может быть, из-за балки смолистой…» 1946 г.) Постепенно происходит понимание того, что человек – не Властелин, не Царь природы, что сам он, как и каждая деталь бытия, являются частичкой всеобъемлющей Вселенной.
В цикле «Песнь песней» лирический герой поднимается на новую высоту, приобретает новый масштаб. Он пишет не просто о существовании и конечности пребывания конкретного человека на земле, но о Человеке, совмещающем думы и чаяния народов всех времен, тысячелетний опыт человечества. Размышляет он и о смысле жизни: во второй части цикла он говорит не только о вечности , но и о сущности и значимости жизни, о необходимости высоких целей для каждого, необходимости нести людям свет души, свет знаний, добрых дел во имя человека и человечества, необходимости быть живым каждой клеточкой своего существа:
О тайна среди тайн! Рождение и Смерь!
Рождение и Смерть!
Ты - Солнце или Шлак? Ты - Елка или Жердь?
Ты—Елка или Жердь?
Автор говорит и о высокой миссии Творца, придает огромное значение Слову в ходе истории развития человечества, рассматривает рождение и возрождение, создание нового как высокое творчество природы и человека. Все заканчивается прахом, не подвластно времени и смерти только Слово:
Да упадут мои слова
Озимым севом!
Да прорастет полынь – трава
Под этим чревом!
И только б взять из-под земли,
Достать с корнями
Все то, что после ковыли
Поют над нами!
Цикл состоит из шести частей, соединенных единой философской темой, лейтмотивами жизни, смерти, вечности бытия, творчества. Части соединены на лексическом уровне при помощи скрепов: в разных частях повторяются слова и словосочетания («зерно», «ростинка из зерна», «целина», «солнце», наречия со значением времени – «снова». «вновь»).
Интересна композиция экспрессивно-эмоционального плана цикла.
Для первой части характерно движение лирической составляющей от печали в начале текста, где речь идет о смерти предков и юдоли лирического героя, к радости рождения и возрождения в пятой строфе и вновь к трагическим, скорбным ноткам в завершающей часть восьмой строфе, где определяющим является лейтмотив смерти.
Вторая часть уже не имеет ярко выраженного пафоса трагизма, здесь больше философских раздумий о жизни и смерти, бессмертии и смысле жизни человека. Печалью окрашена четвертая строфа, где доминирует лейтмотив смерти, а последняя строфа второй части пронизана радостью, звучит гимном вечной жизни. Первая и вторая части написаны ямбом, причем в первой части чередование мужской и женской рифмовки придает элегический характер стиху, а во второй мужская рифма усиливает ощущение энергии, силы, мощи.
Ритмический рисунок третьей части вновь меняется: двустопный анапест как будто передает жалобы, горькие вздохи человека, чувствующего приближение рокового предела, и, в то же время, смирение перед неотвратимостью конца пути. Лейтмотив смерти воплощается через образ наступающих холодов («А у нашего струга // Замерзает вода…», «И пускай наши ветки // Снеговей унесет…»), разрушающейся от времени лодки, весла (« А у нашего струга // Искрошилось весло…»), образ каменеющих звезд как символ памятника или могильного камня.
Удлинение строки за счет использования шестистопного ямба с чередующейся мужской и женской рифмовкой в четвертой части придают черты эпоса циклу, передают философские настроения мудрым размышлениям автора.
Умиротворением и ощущением гармонии пронизаны строчки пятой части, написанные четырехстопным ямбом с чередующейся мужской и женской рифмой.
Последняя, шестая часть написана в духе русских народных плясовых песен. Четырехстопный ямб передает задорный, порой частушечный характер стиха. Вся часть пронизана радостью, ликованием. По сути, это гимн вечно возрождающейся жизни. Центральным образом здесь является образ Весны. Весна – символ воскрешения и обновления. Автор создает не традиционный образ Красны - Весны в фольклорном стиле, а образ молодого Апреля (вспомним языческого Леля- певца и плясуна). Апрель «в малиновой рубашке» (основные цвета древнерусской живописи), с «громкой свирелью» скачет на «прытких пегашках» (разговорное «пегашки» - и от крылатого Пегаса, и от названия масти «пегий»). Атрибуты весны- радуга, капель, образ мартовского кота («Будем прыгать и ругаться, // Задирать повыше хвост…»), солнце, реки (реки, разлившиеся, освободившиеся ото льда). Ощущение быстрого, энергичного движения, пляса передается при помощи обилия глаголов со значением движения, эпитета «прыткие», имеющего значение «быстрое движение». Построение неполных предложений с повторяющимися союзами «то ли» и отсутствие глаголов также передает ритм веселой пляски.
Образ весны создается и при помощи аллитерации: «А пока не отРешилСя // Ни от солнца, ни от Рек, // Слышишь – в поле РаСкатилСя // Грохот оГневых телеГ…». Сочетание звонких согласных Г,Р,С передает звуки первой грозы, начинающегося ливня. Настроение ликования, восторга, радости, переливающейся через край, передается и на уровне поэтического синтаксиса благодаря использованию риторических вопросов, восклицательных предложений, неполных синтаксических конструкций, номинативных предложений: «То ли внуки, то ли детки?// То ли грива, то ли дым?...» Или: «Через кудри, через плеши! // Через камни, через рвы!...» Или: «К черту старость и лежанку! // К черту зимнюю кудель! // Забирай свою тальянку // Да за нами - под капель…»
Таким образом, цикл Н.И. Тряпкина «Песнь песней» действительно является Гимном, воспевающим вечную, непрекращающуюся жизнь, жизнь, протекающую в гармонии человека и природы, Вселенной, Мироздания.
Наталья Терехина, преподаватель колледжа
Похожие записи:
 Основные темы и мотивы цикла Н.И. Тряпкина «Журавлиная цепочка лет»
Основные темы и мотивы цикла Н.И. Тряпкина «Журавлиная цепочка лет»
 Традиции народной эпической песни в лирике Тряпкина
Традиции народной эпической песни в лирике Тряпкина
 Образ лирического героя цикла Н.И. Тряпкина «Журавлиная цепочка лет»
Образ лирического героя цикла Н.И. Тряпкина «Журавлиная цепочка лет»
 Традиции лирической песни в творчестве Тряпкина
Традиции лирической песни в творчестве Тряпкина
← Философский смысл баллады Киплинга «Последняя песнь честного Томаса» | Проблематика книги Ксении Полозовой «Водолаз Коновалов и его космос» →
|
|
Опубликовано: 38 дней назад (22 марта 2025)
Просмотров: 472
|
+1↑ Голосов: 1 |
Нет комментариев. Ваш будет первым!